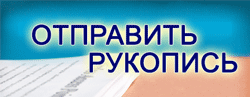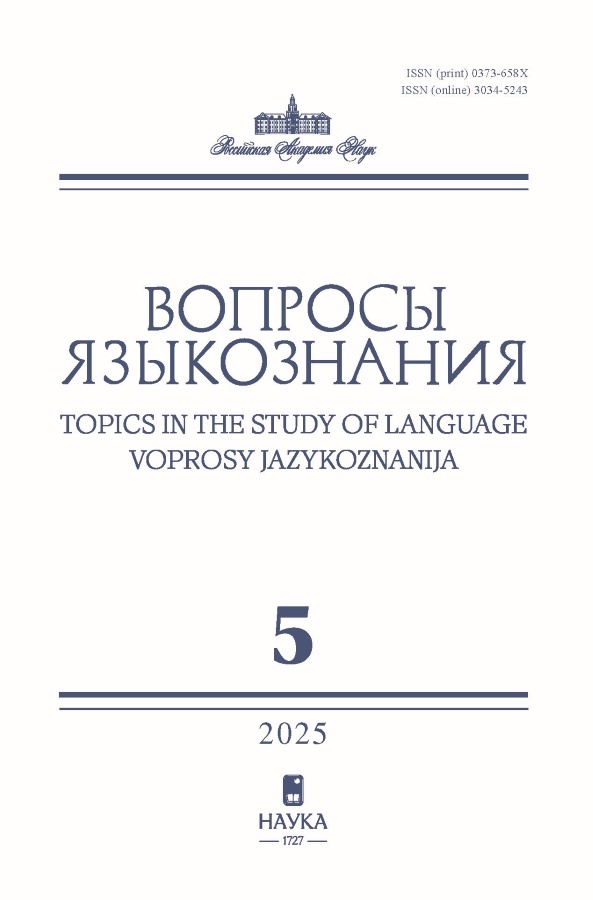№ 5 (2025)
Спецвыпуск памяти Л. Л. Иомдина
Предисловие
Вопросы языкознания. 2025;(5):7-10
 7-10
7-10


Конструкция как-то так как дискурсивный маркер
Аннотация
В настоящей статье рассматриваются дискурсивные функции сочетания как-то так, которое реализует широкий спектр значений: анафору, дейксис, хезитацию, оценку и суммирование. Эти функции делятся на референциальные (анафора, дейксис), структурные (суммирование) и когнитивные (хезитация, оценка). Семантика маркера обусловлена взаимодействием компонентов: неопределенности, связанной с местоимением как-то, и указательности, связанной с так. Указательная семантика преобладает в анафорических, дейктических и суммирующих употреблениях, тогда как семантика неопределенности — в хезитативных и оценочных. Разные функции сопровождаются специфическими синтаксическими, просодическими и даже жестовыми особенностями. В целом развитие конструкции как-то так проходит путь от композициональных значений к грамматикализованному дискурсивному маркеру. Такая эволюция типична для указательных местоимений, но мало описана для сочетаний с неопределенными местоимениями. Диахронический анализ показывает, что значение суммирования является новейшим, в то время как остальные функции представлены уже в текстах XIX в., где на раннем этапе преобладало оценочное значение.
Вопросы языкознания. 2025;(5):11-29
 11-29
11-29


«Малый синтаксис» в русской фразеологии
Аннотация
В статье рассматривается семантика и деривационная история дублетных идиом вот-вот, ни-ни и тьфу-тьфу. Показано, что при формальной схожести структуры этих идиом — редупликации составляющих их элементов — их результирующая семантика непредсказуема и специфична для каждой единицы. Кроме того, их происхождение не сводимо к единому алгоритму. В основе семантики дублетной идиомы вот-вот лежит редупликация дейктического жеста, который в процессе семантической эволюции перешел из пространственной сферы во временную с последующим усложнением семантики — в результате вот-вот используется и для выражения согласия. В противоположность вот-вот, дублетная форма ни-ни наследовала идею отрицания от одиночного ни, но не имела иконичных употреблений. Кроме того, идиома ни-ни (как и частица ни) не связана с дейксисом. Идиома тьфу-тьфу, скорее всего, восходит к жесту оберега, существенно отличающемуся по функции от жеста недовольства, презрения или безразличия, сопровождающего междометие тьфу. Особенности генезиса дублетных идиом оказывают прямое воздействие на их актуальную семантику.
Вопросы языкознания. 2025;(5):30-43
 30-43
30-43


Взаимодействие локативных адвербиалов со значением глагола
Аннотация
Целый ряд локативных адвербиалов группируется вокруг концепта расстояния между двумя точками, например, на три километра, в трех километрах, за три километра, на расстоянии (протяжении) трех километров, на пушечный выстрел, на безопасное расстояние, близко, вблизи, вплотную, далеко, вдалеке и т. д. Величина этого расстояния обычно характеризуется достаточно прозрачно, а вот точки А и Б, между которыми устанавливается это расстояние, часто представлены в предложении имплицитно. Мы исследуем некоторые типы предложений, в которых идентификация этих точек неочевидна или неоднозначна. В зависимости от выбора этих точек следует различать два типа интерпретации адвербиала — интерпретацию с ориентацией на начальную и на конечную точку. Условия реализации каждой интерпретации зависят как от значения глагола, так и от характера адвербиала. Описываются несколько конкретных адвербиалов, демонстрирующих необычные свойства. Адвербиал на пушечный выстрел в ряде употреблений имеет противоположные значения. Адвербиал на безопасное расстояние ведет себя по-разному при глаголах удаления и приближения: в первом случае он входит в сферу действия семы начинательности, присутствующей в значении глагола, а во втором случае такой способности у него нет. Наконец, показано, что выражение более чем N имеет три типа интерпретации в сочетании с глаголами приближения, в одной из которых оно парадоксальным образом синонимично выражению менее чем N.
Вопросы языкознания. 2025;(5):44-60
 44-60
44-60


Русское всё равно revisited
Аннотация
В статье предлагается анализ структуры полисемии русской синтаксической фраземы всё равно. Различаются два класса употреблений этой единицы — предикатное, в котором она имеет две валентности (субъекта в дательном падеже и сентенциального объекта) и выражает «отсутствие различия», и коннекторное, при котором всё равно маркирует логическую связь между двумя ситуациями, устанавливаемую говорящим. В зависимости от характера этой связи в рамках коннекторного употребления предлагается различать два значения: «вопреки ожиданию» и «аргумент». Рассматриваются также квазисинонимы единицы всё равно — всё одно и всё едино. Типологическая значимость семантических переходов, обеспечивающих полисемию анализируемых языковых единиц, подтверждается материалом Базы данных семантических переходов в языках мира DatSemShift.
Вопросы языкознания. 2025;(5):61-75
 61-75
61-75


«Мастер и Маргарита» М. А. Булгакова и «Предварительные итоги» Ю. В. Трифонова: параллели и их лингвистический анализ
Аннотация
В статье сравниваются тексты романа М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита» и повести Ю. В. Трифонова «Предварительные итоги». Обнаружено больше 30 пар фрагментов этих текстов, между которыми можно найти сюжетное, стилистическое и лексическое сходство. Делается попытка формализовать обнаруженные параллели лингвистическими методами (статистические подсчеты лексического сходства, анализ совпадающих неоднословных фрагментов, выявление совпадающих низкочастотных слов, автоматическое измерение семантической близости). Ни один из предложенных методов не показывает значимого влияния одного из текстов на другой. В заключение обсуждаются принципиальные возможности формализации интуитивно выделенных параллелей в художественных текстах и предлагаются методы дальнейших исследований такого рода.
Вопросы языкознания. 2025;(5):76-90
 76-90
76-90


Русское всё равно: парадоксы незавершенной морфологизации
Аннотация
В статье на представительном корпусном материале рассматриваются нетривиальные морфосинтаксические свойства экспериенциального предикатива всё равно (возникшего, по нашему мнению, под польским влиянием) в русском языке XVII–XXI вв. Если семантические особенности этого выражения были достаточно подробно описаны Л.Л. Иомдиным, то его диахроническая эволюция и статус его компонентов до сих пор редко попадали в поле зрения лингвистов. Показано, что изначально элементы всё и равно проявляли высокую степень морфосинтаксической и просодической автономности (в частности, набор языковых единиц, которые могли помещаться между ними, был чрезвычайно разнообразен), при этом образуя семантически идиоматичный комплекс. Противоречие между семантической связностью и морфологической автономностью было разрешено в истории русского языка путем понижения морфосинтаксического статуса этих элементов и усиления морфологической связности сочетания всё равно. Данный процесс можно считать завершенным в современном языке для конструкции P всё равно [что/как] Q в значении ‘P эквивалентно/равносильно Q’ и для адвербиального всё равно ‘в любом случае; несмотря ни на что’. В своем же исходном значении (‘безразлично’) эта единица обнаруживает признаки вторичной словоформы с не завершенной до конца морфологизацией, прежде всего в контекстах с отрицанием. В этих контекстах еще сохраняется возможность помещения между всё и равно ограниченного набора других единиц (в первую очередь энклитики ли и форм личных местоимений субъектного датива). Тем не менее, тенденция к полной морфологизации безусловно проявляется и в отрицательных контекстах в виде постепенной «экстернализации» этих единиц в постпозицию: так, последовательность не всё равно ли (+ дат. падеж) особенно частотна в русской поэзии.
Вопросы языкознания. 2025;(5):91-117
 91-117
91-117


Распространительно-присоединительные конструкции: семантика, синтаксис, коммуникативная организация
Аннотация
В статье обсуждаются семантические, синтаксические и коммуникативные особенности распространительно-присоединительных конструкций, которые обычно считаются коррелятами изъяснительных предложений («обратноподчиненными»), ср.: Он уехал, о чем я не знал — Я не знал о том, что он уехал. Рассмотрены случаи, когда денотативный статус ситуации, выраженной в главной части, и пропозиционального относительного местоимения не совпадают: Меня перевели в отдел газет, о чем я просил Ильичева (перевели — реальный статус, просил о чем — ирреальный статус). Проведено сравнение с денотативными статусами предметных именных групп и анафорических местоимений. Показано, что распространительно-присоединительные конструкции служат реализацией одной из нарративных стратегий, которая выдвигает на первый план события (факты) и придает статус дополнительного сообщения модусным предикатам.
Вопросы языкознания. 2025;(5):118-142
 118-142
118-142


Кто любит, тот любим: прилагательные эмоционального отношения с конверсивной многозначностью в русском языке
Аннотация
В статье рассматриваются русские прилагательные, обладающие способностью характеризовать как субъект, так и объект эмоционального отношения. Применительно к глаголам это явление обычно описывается как лабильность. Такой тип метонимии прилагательных встречается нечасто, однако для прилагательных эмоционального отношения он очень естествен. Обычно смыслы ‘такой, который является субъектом такого-то чувства’ и ‘такой, который является объектом такого-то чувства’ выражаются разными словами: любящий, влюбленный, нежный, ласковый характеризуют того, кто любит, или его жесты, взгляды, голос и т. п., а любимый, возлюбленный, дорогой описывают предмет чувства, но бывают случаи, когда оба смысла выражаются одной языковой единицей. Например, слово любезный имеет значение ‘дружелюбный’ (любезная секретарша, он был ко мне любезен) или ‘дорогой’ (любезный друг; И долго буду тем любезен я народу…), хотя второе значение устарело. Слово милый свободно употребляется в контекстах и типа мил мне, и типа мил ко мне. При этом часто два смысла выражаются синкретично: Ее мама очень милая — трудно сказать, имеется в виду скорее симпатичная или дружелюбная; милая улыбка — привлекательная или благосклонная. Аналогичная многозначность была, например, и у слова любовный, но пассивное значение полностью утратилось. Можно сделать вывод о системном характере такой многозначности и ее глубоких содержательных основаниях. Описываемый семантический переход имеет и типологические параллели.
Вопросы языкознания. 2025;(5):143-153
 143-153
143-153


Еще раз о русских фразах типа Мне негде спать
Аннотация
В статье описываются фразы формы (i) Mne est′ gde spat′ и (ii) Mne ØPRES Byt′I.1 negde spat′. Показано, что подобные фразы синтаксически не параллельны: в (i) словоформа est′ — это форма настоящего времени экзистенциального глагола Byt′III.2 ≈ ‘иметься′, а gde — псевдо-относительное местоименное наречие gde2a , зависящее от глагола в инфинитиве (spat′); в (ii) нулевая словоформа ØPRES Byt′I.1 является формой настоящего времени связки Byt′I.1 , negde же — предикативное местоименное наречие, зависящее от Byt′I.1 в роли опорного глагола. Предлагается словарная статья для nEgde. Выражение gde mne spat′ представляет собой особое синтаксическое образование: модально-инфинитивное словосочетание; такое словосочетание, взятое с глаголом Byt′III.2 , составляет синтаксически разрывную коллокацию особого типа. Рассматривается перенос, или миграция, актантов в коллокациях с опорным глаголом — от базы к коллокату; даются схематические очерки вокабул Byt′ и gde.
Вопросы языкознания. 2025;(5):154-174
 154-174
154-174


И всё такое прочее: внеграмматические способы выражения репрезентативной множественности в русском языке
Аннотация
В работе очерчена основная номенклатура так называемых универсальных распространителей в русском языке; систематизированы их семантические, прагматические и структурные свойства; показано, что универсальные распространители отвечают за область значений, близкую той, которая в языках мира выражается грамматическими маркерами репрезентативной множественности. Выделено два основных типа конструкций с универсальными распространителями. Тип 1 — это сочинительные конструкции типа Егор Булычев и другие, где первый конъюнкт — фокальный элемент Х, т. е. центральный элемент, являющийся представителем множества, а второй конъюнкт — местоименное/адъективное образование, указывающее на множество элементов, подобных Х-у или ассоциированных с ним: и так далее, и тому подобное, и всё такое прочее, и всё в том же духе / в таком роде и т. п. Тип 2 — конструкции типа Операция «Ы» и другие приключения Шурика. Это сочинительные конструкции, в которых первый конъюнкт — фокальный элемент, а второй конъюнкт — общее название элементов множества, к которому принадлежит фокальный элемент, с обязательным определением со значением «оставшейся части» — другие, иные, остальные, прочие и опциональным дополнительным определением со значением множественности, неодинаковости и вариативности — всякие, всяческие, всевозможные, разнообразные, разные, различные. Продемонстрировано, что в русском языке имеются также особые просодические средства, способные выполнять функцию универсальных распространителей как самостоятельно, так и в сочетании с лексическими средствами. Исследование опирается на данные основного и мультимедийного корпусов НКРЯ; для анализа просодии привлекаются также данные пилотной версии просодически размеченного корпуса устных личных рассказов «Что я видел».
Вопросы языкознания. 2025;(5):174-188
 174-188
174-188