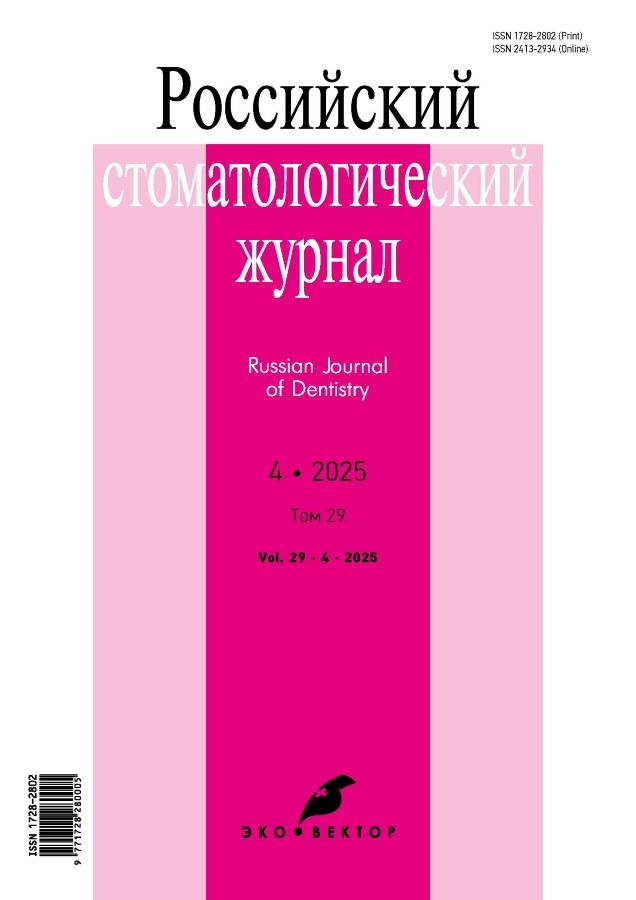Intramembranous ossification in alveolar ridge defect repair using noninductive biomaterials: experimental study
- 作者: Perova M.D.1,2, Ananich A.Y.1, Verevkin A.A.1, Sevostyanov I.A.2, Melkonian K.I.1, Samoxvalova I.D.1,2, Alayoub I.1
-
隶属关系:
- Kuban State Medical University
- LLC “Stomatological Сenter ‘Intelligent’”
- 期: 卷 29, 编号 4 (2025)
- 页面: 357-367
- 栏目: Original Study Articles
- ##submission.dateSubmitted##: 22.04.2025
- ##submission.dateAccepted##: 20.05.2025
- ##submission.datePublished##: 29.08.2025
- URL: https://rjdentistry.com/1728-2802/article/view/678800
- DOI: https://doi.org/10.17816/dent678800
- EDN: https://elibrary.ru/CXBVCW
- ID: 678800
如何引用文章
详细
BACKGROUND: Limited understanding of direct bone formation during repair of alveolar ridge defects—compared with extensively studied endochondral ossification—leads to varied interpretations of treatment outcomes and efficacy assessments in dentistry and maxillofacial surgery.
AIM: This study aimed to investigate early repair of critical-sized alveolar bone defects via intramembranous ossification using noninductive biomaterials.
METHODS: This segment of the study was conducted at the Central Research Laboratory of Kuban State Medical University utilizing three sexually mature healthy minipigs. Animal care adhered to bioethical standards. Critical-sized bone defects were filled with acellular dermal matrix and naturally derived osteoconductive granules. Animals were euthanized on day 120. Morphologic assessment of decalcified specimens was performed with hematoxylin and eosin, van Gieson’s picrofuchsin, and Masson’s trichrome (BioVitrum, Russia). Randomization was not applied.
RESULTS: Defect repair was mediated by de novo vascularization via initiation of local hematopoiesis. Sinusoidal capillaries formed in the venous network of the regional vascular bed, with emerging hematopoietic cells migrating through discontinuous endothelium. Immature precursor cells proliferated and differentiated predominantly into segmental granulocytes, which participated in dynamic intercellular and cell–matrix interactions, forming transient intermediate cell types. These processes led to the development of a reticular connective tissue—niche resembling bone marrow structures—with new osteoid and reticulofibrotic trabeculae. Noninductive matrix and granular biomaterials demonstrated an effect on vasculogenesis.
CONCLUSION: These results reveal a direct relationship between the induction of hematopoiesis in sinusoidal capillaries within alveolar defects and intramedullary osteogenesis. Granulocytes play a pivotal role in normal healing and reparative dysregulation in the presence of nonresorbed osteoconductive granules.
全文:
Обоснование
В настоящее время запрос на реконструктивно-восстановительную хирургию челюстно-лицевой области продолжает оставаться высоким [1–6]. В клинической практике с разной степенью успеха применяют методы и способы замещения костных дефектов и/или дефицитов с использованием современных биоматериалов [7–10]. Заживление костных ран как фундаментальный процесс в живом организме представляет собой набор многовекторных и последовательных биологических этапов, которые отличаются алгоритмом моделирования и ремоделирования минерализованных структур [11–14]. Высокодинамичный и сложный процесс взаимодействия клеток, включающий миграцию, пролиферацию и дифференцировку, а также их своевременную координацию и регуляцию во время формирования/заживления кости, всё ещё недостаточно изучен [15]. К настоящему времени опубликовано большое количество исследований с результатами костнопластических операций на альвеолярных челюстных костях с представлением клинико-рентгенологических, морфологических и гистоморфометрических данных, а также результатов изучения сосудистого кровотока в зонах интереса с целью верификации качества и достигнутых объёмов полезных тканей. В качестве индикаторов успеха преобладают оценки прироста новых структур, степени минерализации образовавшейся опорной кости, характеристик и особенностей деградации остеозамещающих биоматериалов с разными свойствами [5, 10, 16–19].
Верхняя и нижняя челюсть, а также некоторые другие кости, такие как ключицы, относятся к плоским, для которых характерно образование минерализованных структур в соответствии с паттерном прямого костного образования — интрамедуллярного остеогенеза, т. е. без промежуточной стадии хрящевой мозоли [20, 21]. Роль ангиогенеза при энхондральном окостенении считают очевидной [22], априори относя прямое костное образование к тому же паттерну. Экспериментальное изучение репаративного остеогенеза теменной кости черепа как наиболее частого образца для сопоставительных оценок с результатами замещения дефектов челюстных костей не может являться убедительным хотя бы по фактору разной остеогенной активности периоста и твёрдой мозговой оболочки, а также метаболических и морфогенетических различий [20, 22–25].
Если по характеристикам биосовместимости, составу и химизму, свойствам резорбции биоматериалов и их поведению в организме хозяина достигнут прогресс в понимании, то события инициации и динамики раннего остеогенного процесса в альвеолярном челюстном гребне до сих пор остаются невыясненными и неописанными. Имеющийся пробел в фундаментальных знаниях о природе формирования сосудистой сети объясняет недостаточное понимание процессов протекания репаративного остеогенеза челюстных костей. В связи с этим мы сочли целесообразным и своевременным пронаблюдать динамику ранних процессов клеточного поведения в ходе репаративного остеогенеза в искусственно созданных дефектах альвеолярного челюстного гребня с часто используемыми в практике современными биоматериалами.
Цель
В эксперименте на крупных лабораторных животных изучить события раннего замещения объёмных дефектов альвеолярной челюстной кости в контексте паттерна прямого костного образования с использованием неиндуцирующих биоматериалов.
Методы
Дизайн исследования
Проведено экспериментальное нерандомизированное исследование.
Условия проведения
Работа выполнена в научно-производственном отделе Центральной научно-исследовательской лаборатории Кубанского государственного медицинского университета (ЦНИЛ КубГМУ). Подготовку биоматериалов для эксперимента осуществляли в ЦНИЛ КубГМУ на половозрелых минипигах, которые были транспортированы из питомника лабораторных животных Петербургского института ядерной физики имени Б.П. Константинова Национального исследовательского центра «Курчатовский институт».
Описание медицинского вмешательства
В эксперименте участвовали три половозрелых минипига обоего пола массой тела 2,5 кг в возрасте полугода. Донором кожи для получения дермальных матриксов явилось дополнительное животное. Минипиги были осмотрены на наличие видимой патологии или признаков болезни. В период адаптации (14 дней) они находились на карантине в отдельных боксах, после чего были переселены в типовые клетки, где до выведения из эксперимента находились в стандартных условиях со свободным доступом к воде и пище. До начала эксперимента животных взвесили. На протяжении всего исследования осуществляли документальную фиксацию (протоколы) объективного состояния здоровья минипигов. Хирургические вмешательства выполняли в операционной виварного блока с соблюдением правил асептики и антисептики, использовали общее и местное обезболивание.
Бесклеточные дермальные матриксы без эпидермального компонента получали детергентно-энзиматическим методом с использованием 1% тритона Х-100 и 4% дезоксихолата натрия (Sigma-Aldrich, США); использован разработанный сотрудниками ЦНИЛ КубГМУ ацеллюлярный дермальный матрикс (АцДМ) [26].
Ход эксперимента и хирургический протокол. В настоящем фрагменте работы с животными — анализе результатов исследования — был применён АцДМ без эпидермального слоя, который трансплантировали поверх искусственного костного дефекта под нерезорбируемую барьерную мембрану (группа 1; 3 участка альвеолярного гребня), и в сочетании с остеокондуктивным гранулированным биоматериалом природного происхождения, но без мембранного барьера (группа 2; 3 участка альвеолярного гребня).
Для введения животных в наркоз применяли внутривенную анестезию дексмедетомидином и раствором для инъекций, состоящим из тилетамина гидрохлорида и золазепама гидрохлорида1; для местного обезболивания использовали раствор для инъекций, содержащий артикаин + эпинефрин. Дезинфекцию операционного поля проводили повидон-йодом. После удаления первых нижних постоянных моляров с большой дивергенцией корней формировали билатеральные дефекты альвеолярного челюстного гребня путём разрушения наружной кортикальной пластинки хирургическим шаровидным бором на половину высоты и удаления широкой межкорневой кости; поверх сформированных дефектов трансплантировали биоматериалы согласно дизайну исследования, проводили мобилизацию мукопериостальных лоскутов, раны ушивали синтетическим шовным материалом VICRYL 910; нить 5-0 (Ethicon, Johnson & Johnson, США).
В послеоперационном периоде антибиотики не использовали, поскольку (1) исследование запланировано и проведено в условиях отсутствия патологии и (2) имело целью исключить влияние дополнительных лекарственных средств на иммунный ответ организма животных. В течение первой недели после хирургического вмешательства выполняли антисептическую обработку полости рта 0,05% раствором хлоргексидина биглюконата, включая контактные поверхности зубов, прилежащих к дефектам. В этом периоде животным ограничивали жёсткую пищу при сохранении сбалансированного рациона. Выведение животных из эксперимента проводили на 120-е сутки путём введения летальных доз препаратов, использованных для наркоза.
Морфологический анализ. Для лабораторного этапа исследования у минипигов полностью выделяли нижнюю челюсть с погружением материала аутопсий в 10% нейтральный формалин для фиксации. Проводили декальцинацию в двух сменах раствора «Софтидек» («БиоВитрум», Россия) в течение шести суток. Гистологическую проводку выполняли на гистопроцессоре ТР1020 (Leica Biosystems, Германия). При помощи ротационного микротома RM223 (Leica Biosystems, Германия) изготавливали парафиновые срезы толщиной 4 мкм, которые помещали на электризованные адгезивные предметные стёкла для изучения сформированных структур в мезиодистальном направлении. Препараты окрашивали гематоксилином и эозином, пикрофуксином по Ван-Гизону и трихромом по Массону («БиоВитрум», Россия).
Статистический анализ
Эксперимент не является рандомизированным. Для определения количества включённых в работу животных и объёма материала аутопсии альвеолярной челюстной кости не использовали какой-либо статистический метод.
Результаты
Сроки первичного заживления ран были сопоставимы в подгруппах исследования и составили 120 сут. В группе 2 отмечена более значительная вертикальная утрата тканевых структур как в зоне дефекта, так и с контактных поверхностей рядом расположенных зубов; участков экспонирования поверхности биоматериалов в полость рта не наблюдали. На момент выведения животных из эксперимента покровные ткани зон реконструкции были оценены как здоровые.
В образцах группы 1 покровную ткань дефекта отличают сниженное количество ростковых слоёв эпителия, неравномерная кератинизация пласта, отсутствие клеточной анизоморфии без признаков формирования сосочкового слоя эпителия, наличие прерывистого базального слоя (рис. 1, a)2. Дермографт к окончанию эксперимента сохранил свою исходную толщину при качественном перестроении поверхности как основы для формирования новых структур. Под барьерной мембраной определяются небольшие синусоидальные капилляры (рис. 1, a, 1) с созревающими гемопоэтическими клетками в виде островков. Визуализируется выход из них оксифильно окрашенных неприкреплённых клеток в окружающую ткань (рис. 1, a, 2): посредством цитоплазматических отростков-мостиков клетки мигрируют трансваскулярно, чаще группами, через имеющиеся бреши (поры) в стенках синусоидальных капилляров. Быстрое увеличение количества и изменения морфологии клеточных форм в тканях обнаруживается в виде множества мелких базофильно окрашенных сегментоядерных, реже — палочкоядерных, нейтрофильных лейкоцитов, как и более крупных переходных промежуточных клеток с разной степенью интенсивности окраски. Хорошо визуализируются процессы слияния части гранулоцитарных элементов с возникновением клеток, содержащих несколько тёмных ядер и вытянутую уплощённую цитоплазму (рис. 1, a, 3). В виде длинных лиловых тяжей или более тонких цитоплазматических отростков они формируют стенки новых синусоидальных капилляров, как и трофических сосудов, а также выстилают поры и неровности АцДМ, располагаясь поверх ранее сформированных коллагеновых волокон матрикса дермографта. Такие клеточные агрегаты взаимодействуют с крупными фибробластоподобными клетками в разветвлённой структуре матрикса (рис. 1, a, 4), увеличивая толщину формируемых тканей за счёт продукции органической субстанции как связующей основы. В зонах образования ретикулярной ткани костного мозга клетки-выстилки участвуют в формировании более контрастно окрашенных клеток треугольной формы, что хорошо определяется в нижерасположенных межтрабекулярных пространствах, а также в поверхностных подмембранных участках в виде очаговых образований.
Рис. 1. Морфологическая картина формирования тканей альвеолярного дефекта с ацеллюлярным дермальным матриксом (АцДМ) и барьерной мембраной:
a — в поверхностном участке, ×100, окраска гематоксилином и эозином; I — эпителий, II — нерезорбируемая барьерная мембрана, III — ацеллюлярный дермальный матрикс; 1 — синусоидальные капилляры, 2 — трансваскулярная миграция клеток, 3 — эффекты слияния гранулоцитов в длинные клеточные агрегаты, 4 — формирование ретикулярной соединительной ткани;
b — в глубоком участке, ×200, окраска гематоксилином и эозином; 1 — синусоидальные капилляры, 2 — формирование ретикулярной стромы в межбалочных пространствах, 3 — клетки-выстилки, 4 — дифференцировка клеток в остеобласты и эффекты клеточного слияния, 5 — первичные костные балки;
c — окраска по Массону, ×200; 1 — синусоидальные капилляры, 2 — клеточная выстилка первичных костных балок, 3 — участок дифференцировки гранулоцитов в выстилающие и другие активные клетки, 4 — дифференцировка клеток в остеобласты и эффекты клеточного слияния.
Крупный фрагмент синусоидального дерева и несколько небольших гемокапилляров образованы в интерпозиции АцДМ и зоне первичных костных балок (рис. 1, b, 1): после миграции миелоидных клеток-предшественников из гемокапилляров происходит запуск процессов клеточной пролиферации и дифференцировки (с изменением морфологии) в вышеописанной последовательности событий, отличаясь лишь отсутствием в этой зоне дермоматрикса. Сформированная ретикулярная соединительная ткань образует строму кроветворного костного мозга в зоне костного дефекта (рис. 1, b, 2, 3, 5). Ретикулярные клетки взаимодействуют между собой и с другими клетками микроокружения — переходными промежуточными формами — посредством широких цитоплазматических филоподий, образующих сетеподобную структуру. В ней прослеживаются прямое взаимодействие с клетками-выстилками, а также активность процессов клеточных слияний, что предваряет дифференцирование в остеобласты — крупные клетки полигональной формы, с резко базофильными ядрами с несколькими ядрышками (рис. 1, b, 4).
Последующие клеточные активации в костномозговой межбалочной структуре при увеличении молодой кости в толщину происходят за счёт аппозиционного роста. Базофильно окрашенные клетки эндостального слоя, среди которых хорошо видны остеобласты-строители и гранулоцитарные клеточные формы, соединённые длинными отростками, перемещаются внутрь структуры ретикулофиброзных костных балок. Часть остеобластических клеток приобретает функции остеоцитов (cм. рис. 1, b; рис. 1, с). Эти эффекты остаются заметными и позже — в зрелой пластинчатой кости альвеолярного челюстного гребня — как неминерализованные или слабо минерализованные межфазные промежутки, вдоль которых откладываются кристаллы апатита, как по трафарету [23].
Следует отметить также, что во всех тканевых слоях de novo встречаются одиночно расположенные крупные клетки с резко базофильной окраской ядер и тонким слоем голубоватой цитоплазмы (по-видимому, из пула местно-дифференцированных). Имея прямой контакт с клеткой-выстилкой, они не проявляют видимой функциональной активности.
В группе 2 биодеградация ацеллюлярного дермального матрикса произошла почти полностью; сформирован многослойный плоский ороговевающий эпителий (рис. 2, а). В большем числе образцов группы эпителиальные тяжи прорастали сквозь толщу плотной волокнистой соединительной ткани, почти до уровня нахождения нерезорбированных остеокондуктивных гранул (рис. 2, b, 1). Под остаточным слоем АцДМ видны грубоволокнистые структуры костных балок с гиперклеточностью за счёт множества промежуточных клеточных форм. Локализуясь по границе с межбалочными пространствами, они взаимодействуют друг с другом, образуя небольшие переплетения цитоплазматических отростков. Видны также их контакты с регрессируемыми эндостальными поверхностями костных балок; в некоторых участках эндост отсутствует, заметен эффект «размывания» границ с межбалочными костномозговыми пространствами. Изменена структура ретикулярной ткани межбалочных пространств в виде увеличения плотности и появления зон фиброза. В сформированных ранее костных балках видно замещение остеоцитарных клеток бессосудистой плотной волокнистой соединительной тканью, в составе костных балок определяются оставшиеся нерезорбированными гранулы биоматериала.
Рис. 2. Морфологическая картина формирования тканей в альвеолярном дефекте с ацеллюлярным дермальным матриксом и гранулами остеокондуктивного материала:
а — окраска гематоксилином и эозином, ×400; I — эпителий, II — зона остаточного дермографта; 1 — ретикулофиброзные костные балки, 2 — межбалочные пространства, 3 — синусоидальные капилляры, 4 — формирование остеоида;
b — окраска по Массону, ×400; 1 — эпителиальные тяжи, 2 — формирование остеоида, 3 — гибель кроветворных клеток внутри синусоида, 4 — утолщение стенок синусоида и трофического артериального капилляра, 5 — большое количество остаточных гранул биоматериала;
c — общий вид, окраска гематоксилином и эозином, ×200; 1 — фиброзные изменения в тканях межбалочных пространств, 2 — остаточные гранулы остеокондуктора; внутри овалов — появление небольших синусоидальных капилляров и появление первичных костных балок.
Результаты трихромной реакции в окраске по Массону позволили уточнить ряд негативных эффектов (рис. 2, b). Принципиальные морфологические изменения обнаружены в синусоидальных капиллярах: в пристеночных участках прослеживается продуцирование органической остеоидной субстанции, к которой «прилипают» кроветворные клетки; предотвращается целевая миграция в ткань микроокружения; нарушается интраваскулярная ориентация клеток в кроветворных островках (рис. 2, b, 2). Отмечено значительное изменение стенок гемокапилляров за счёт образования бесклеточных толстых коллагеновых волокон; внутри крупного синусоидального капилляра виден рост кристаллов апатита с обоих полюсов, просветы сосудов оссифицируются, островки кроветворных клеток разрушаются (рис. 2, b, 3). В глубоких участках визуализируются крупные скопления остаточных остеозамещающих гранул.
В костномозговых пространствах на фоне фиброзно-изменённых структур обнаружено общее отсутствие больших синусоидальных капилляров; оставшиеся в тканях мелкие васкулярные синусы не функционируют (рис. 2, с). В межбалочных пространствах превалирует плотная волокнистая соединительная ткань, в которой видны мегакариоциты с высвобождением тромбоцитарных пластинок в ткань в небольших фрагментах цитоплазмы; нерегулярно расположенная и отличная от нормы ретикулярная ткань замещается волокнистыми структурами зон с участками аваскулярных уплотнений костномозговой стромы. Поверхности ранее сформированных ретикулофиброзных костных балок имеют тонкий слой эндоста.
Вместе с тем в отдельных локусах биодеградации гранул на фоне плотной волокнистой соединительной ткани межбалочных пространств замечено появление мелких гемокапилляров с небольшим числом кроветворных клеток, способных к миграции в ткань. Редкие морфологические события на данном временнóм этапе, обнаруженные в помеченных овалами зонах (см. рис. 2, с), характеризовались запуском «отложенных» остеогенетических процессов со сниженной степенью активности: на фоне появившихся гранулоцитарных элементов видны клетки-выстилки и новые участки ретикулярной ткани с последующей остеобластической реакцией — формированием небольших костных балочек остеоцитарного строения.
О непосредственных эффектах влияния применённых в работе биоматериалов необходимо отметить следующее. Бесклеточный дермальный матрикс, трансплантированный в супраальвеолярное положение под полупроницаемый барьер, не помешал формированию нормальных костных структур при замещении объёмных дефектов альвеолярного гребня. При этом дополнительная положительная роль в удержании покровных тканей, что востребовано в интраоральной пластической хирургии, была также верифицирована нами в данной работе. В отсутствие барьерного материала при выполнении реконструктивных операций на альвеолярном гребне эпителий имеет тенденцию к прорастанию в глубину дефектов. В результате происходит быстрая резорбция АцДМ; при этом замещение утраченного объёма наблюдается за счёт плотной волокнистой неоформленной соединительной ткани с редуцированным сосудистым сопровождением.
Обсуждение
Экспериментальная работа, выполненная на половозрелых минипигах, физиология, патология и иммунный ответ которых аналогичны человеческим [24], посвящена изучению ранних процессов репаративного остеогенеза, протекающего в альвеолярном челюстном гребне. Паттерн прямого костного образования или интрамедуллярного остеогенеза, характерный для этих структур, встречается также в некоторых участках костей черепно-лицевого комплекса и является более редким в сравнении с остеозамещением через стадию хрящевой мозоли [25]. Мы проследили последовательные события раннего формирования гибридных структур в зонах хирургической реконструкции объёмных дефектов альвеолярного гребня в присутствии неиндуцирующих биоматериалов: бесклеточного дермального матрикса и остеокондуктивных гранул природного происхождения.
Согласно нашему исследованию, в зонах костной реконструкции активно формируются синусоидальные капилляры венозного отдела сосудистой системы региона, в которых запускается процесс кроветворения, а формирование альвеолярного гребня неразрывно связано с событиями васкулогенеза при интрамедуллярном костном росте. Известно, что гемопоэтические стволовые клетки костного мозга дифференцируются в клетки-предшественники миелоидной клеточной линии с последующим образованием эритроцитов, гранулоцитов и тромбоцитов [25, 28]. По мере достижения зрелости клетки попадают в общий кровоток для поддержания постоянства состава крови в организме, наравне со зрелыми форменными элементами крови из красного костного мозга других костей.
Однако функции кроветворения являются более разнообразными, чем представлялось ранее. Мы пронаблюдали старт возникновения синусоидальных капилляров в ходе замещения дефектов кости альвеолярного гребня: одиночная или несколько крупных клеток миелоидных предшественников фиксируются к клеткам-выстилкам, запуская процессы кроветворения во вновь созданном гемокапилляре. Наличие прерывистой эндотелиальной выстилки синусоидальных капилляров способствует миграции незрелых клеток в окружающую ткань, где запускаются процессы пролиферации и дифференцировки клеточных форм. В результате этих процессов в тканях появляется большое количество гранулоцитарных клеток, среди которых большинство составляют мелкие сегментоядерные и реже — палочкоядерные нейтрофильные лейкоциты.
Как выяснено ранее, нейтрофильные лейкоциты обладают белок-синтетической функцией и зрелый нейтрофильный гранулоцит может продуцировать более 700 белков [29, 30]. Об изменениях морфологии нейтрофильных гранулоцитов в ходе хирургического лечения пародонтита с использованием микропористых барьерных мембран уже сообщалось ранее [31, 32]. Свойства пластичности гранулоцитов были визуализированы нами в цитологических образцах-отпечатках поверхностного слоя грануляционной ткани регенерата в виде следующих проявлений: утраты ядерных перемычек с миграцией за пределы клетки отдельных сегментов ядра, появления клеточных форм с вытянутой цитоплазмой и несколькими ядрами, различных клеточных слияний, образования агрегатов внеклеточных структур белков гранул нейтрофилов с компонентами хроматина, появления симпластов и других, что отражает довольно «пёструю» картину переходных промежуточных клеточных форм на ранних этапах построения тканей.
В текущей работе мы обратили внимание на эффекты дифференцирования клеточных форм в виде слияния гранулоцитарных элементов и появления базофильно окрашенных вытянутых клеток с тремя и более уплощёнными тёмными ядрами, которые формировали длинные фибриллы разной толщины с многочисленными межклеточными и клеточно-матриксными контактами. Образованные таким образом клетки-выстилки проявляли функции эндотелиоцитов, формируя стенки синусоидальных капилляров и трофических сосудов (артериол и венул), а также выстилая поверхности и поры оставшегося нерезорбированным дермоматрикса. Другие исследователи отмечали подобный эффект, когда в состоянии реактивных изменений эндотелиоциты демонстрировали свойства клеток соединительной ткани [33].
Далее было отмечено участие эндотелиоцитов в построении ретикулярной соединительной ткани межбалочных пространств — стромы костного мозга, обеспечивающей гемопоэтический гомеостаз [34]. Локальная продукция остеоидной субстанции, наблюдаемая в пределах ретикулярной ткани de novo, богатой функциональными гемокапиллярами, наблюдалась на фоне гранулоцитарной реакции, сопровождающей процесс дифференцирования клеток в остеобласты (строители первичных костных балок). Данное наблюдение позволяет предположить, что для тканевых гранулоцитов, клеток-выстилок/эндотелиоцитов и ретикулярных структур костномозговых пространств характерна общность происхождения. Важно учитывать также наличие у них ряда сходных молекулярных маркёров дифференцировки [32, 35].
При чрезмерном количестве остаточных гранул остеокондуктивного биоматериала наблюдалась выраженная дезорганизация синусоидальных капилляров, в связи с чем произошло нивелирование функции кроветворения и трансваскулярной миграции стволовых клеток в ткань. Это привело к морфофункциональным нарушениям в межбалочных пространствах — появлению в костномозговой нише фиброзных изменений и отсутствию наблюдаемых межклеточных взаимодействий.
Причины инициации и восстановления кроветворения на фоне разрушения костномозговой ниши как микроокружения для регуляции деятельности гемопоэтических стволовых клеток, произошедшего у здоровых животных от влияния различных внешних факторов, ещё предстоит выяснить.
Заключение
Результаты проведённого эксперимента позволяют резюмировать, что успешное замещение дефектов кости альвеолярного челюстного гребня, для которого характерен паттерн прямого костного образования — интрамедуллярного остеогенеза, требует активных процессов васкуляризации (не из предсуществующих кровеносных сосудов, как при ангиогенезе) наряду с кровоснабжением, обеспечивающим трофику в регионе вмешательства. Выявлено, что пусковым событием прямого образования кости в зоне дефектов является возникновение и формирование сети синусоидальных капилляров в венозном отделе регионального сосудистого русла, где запускаются кроветворные процессы. Кроме вымывания зрелых форменных элементов в кровоток, незрелые клетки-предшественники миелоидного ряда мигрируют в ткани костного дефекта, пролиферируют в них и дифференцируются в гранулоцитарные клетки, преимущественно в сегментоядерные нейтрофилы. Последующие динамичные процессы клеточной дифференцировки включают повсеместное образование клеток-выстилок/эндотелиоцитов, прямо участвующих в построении ретикулярной соединительной ткани, первичных костных балок и параллельное формирование межбалочных костномозговых пространств для обеспечения жизнедеятельности стволовых клеток.
Предполагается также, что из пула местно-дифференцированных образованы одиночные, фиксированные к клеткам-выстилкам и рассеянные в тканях de novo родоначальные клетки, не проявляющие до поры своей активности.
Трансплантированный ацеллюлярный дермальный матрикс не демонстрировал побочных эффектов на протекание процессов интрамедуллярного остеогенеза при выявленной дополнительной положительной роли, важной для пластической хирургии полости рта, которая заключается в удержании формирующихся покровных тканей. Барьерная микропористая мембрана из политетрафторэтилена, предотвращая на ранних этапах заживления пролиферацию эпителия вглубь костного дефекта, содействует увеличению объёма новых костных структур альвеолярного гребня.
Асинергия процессов прямого костного образования у здоровых участников эксперимента, отмеченная нами в ответ на воздействие «внешних» факторов (в частном случае — остеокондуктивных гранул), привела к извращению сигнальных путей регуляции клеточного поведения, отмене процессов пролиферации и дифференцировки миелоидных предшественников, морфофункциональной неполноценности костномозговых структур с развитием в них фиброзных изменений, т. е. к блокаде ниши, поддерживающей жизнедеятельность стволовых клеток в регионе.
Представленные морфологические результаты замещения объёмных дефектов альвеолярного челюстного гребня в свете паттерна прямого костного образования следует учитывать при оценке результатов реконструктивных вмешательств на альвеолярной челюстной кости в стоматологии и челюстно-лицевой хирургии. Кроме того, они могут быть полезны для специалистов-биотехнологов при разработке новых остеопластических материалов — в свете факторов, влияющих на васкулогенез и состояние костномозговой ниши гемопоэтических стволовых клеток.
Дополнительная информация
Вклад авторов. М.Д. Перова — разработка концепции, анализ научной литературы, участие в эксперименте, интерпретация данных, написание и редактирование рукописи; А.Ю. Ананич — сбор и анализ источников литературы, подготовка и проведение эксперимента; А.А. Верёвкин — участие в эксперименте, подготовка гистологического материала, редактирование рукописи; И.А. Севостьянов — подготовка и проведение эксперимента; К.И. Мелконян — организация и участие в эксперименте; И.Д. Самохвалова и И. Альяюб — сбор и анализ литературы. Все авторы одобрили рукопись (версию для публикации), а также согласились нести ответственность за все аспекты работы, гарантируя надлежащее рассмотрение и решение вопросов, связанных с точностью и добросовестностью любой её части.
Этическая экспертиза. Эксперимент с участием лабораторных животных был согласован с локальным этическим комитетом Кубанского государственного медицинского университета, что подтверждено протоколом № 91 от 29.09.2020. Все манипуляции проводили в соответствии с принципами биоэтики на основании рекомендаций Всемирного общества защиты животных (WSPA) и требований Европейской конвенции по защите позвоночных животных (Страсбург, 18.03.1986), а также Директивы 2010/63/EU Европейского парламента и совета Европейского союза от 22.09.2010 по охране животных, используемых в научных целях (соответствует требованиям Европейской экономической зоны) и Приказа Министерства здравоохранения РФ от 1.04.2016 № 199н «Об утверждении правил надлежащей лабораторной практики».
Источники финансирования. Авторы заявляют об отсутствии внешнего финансирования при проведении исследования.
Раскрытие интересов. Авторы заявляют об отсутствии отношений, деятельности и интересов за последние три года, связанных с третьими лицами (коммерческими и некоммерческими), интересы которых могут быть затронуты содержанием статьи.
Оригинальность. Статья является оригинальным авторским исследованием.
Доступ к данным. Доступ к данным осуществляется в свободном режиме.
Генеративный искусственный интеллект. При написании статьи технологии генеративного искусственного интеллекта не использовались.
Рассмотрение и рецензирование. Настоящая работа подана в журнал в инициативном порядке и рассмотрена по обычной процедуре. В рецензировании участвовали два внешних рецензента, член редакционной коллегии и научный редактор издания.
Additional information
Author contributions: M.D. Perova: conceptualization, data curation, investigation, data interpretation, writing—original draft, writing—review & editing; A.Yu. Ananich: resources, investigation; A.A. Verevkin: investigation, methodology, writing—review & editing; I.A. Sevostyanov: investigation; K.I. Melkonyan: project administration, investigation; I.D. Samokhvalova, I. Alayoub: resources, data curation. All the authors approved the version of the manuscript to be published and agreed to be accountable for all aspects of the work, ensuring that questions related to the accuracy or integrity of any part of the work are appropriately investigated and resolved.
Ethics approval: The animal experiment was approved by the local Ethics Committee of Kuban State Medical University (protocol No. 91, September 29, 2020). All procedures were conducted in accordance with bioethical principles based on the recommendations of the World Society for the Protection of Animals (WSPA), the European Convention for the Protection of Vertebrate Animals Used for Experimental and Other Scientific Purposes (Strasbourg, March 18, 1986), Directive 2010/63/EU of the European Parliament and of the Council of September 22, 2010 (compliant with European Economic Area requirements), and Order No. 199n of the Ministry of Health of the Russian Federation dated April 1, 2016, “On the Approval of Good Laboratory Practice Rules”.
Funding sources: The authors declare no external funding was received for the study.
Disclosure of interests: The authors have no relationships, activities, or interests for the last three years related to for-profit or not-for-profit third parties whose interests may be affected by the content of the article.
Statement of originality: This article is an original research work by the author.
Data availability statement: Data are available in open access.
Generative AI: No generative artificial intelligence technologies were used to prepare this article.
Provenance and peer review: This paper was submitted unsolicited and reviewed following the standard procedure. The peer review process involved two external reviewers, a member of the editorial board, and the in-house scientific editor.
1 Лекарственное средство не зарегистрировано в Российской Федерации.
2 При стабильном состоянии полупроницаемого нерезорбируемого барьерного материала в ране формируется эпителий с редуцированными структурами; после извлечения мембраны происходит восстановление пласта в короткие сроки до состояния многослойного плоского ороговевающего эпителия, как в норме [27].
作者简介
Marina Perova
Kuban State Medical University; LLC “Stomatological Сenter ‘Intelligent’”
Email: mperova2013@yandex.ru
ORCID iD: 0000-0001-6974-6407
SPIN 代码: 5552-7988
MD, Dr. Sci. (Medicine), Associate Professor; Scientific & Clinical Base of Kuban State Medical University
俄罗斯联邦, Krasnodar; KrasnodarArtem Ananich
Kuban State Medical University
Email: ananicha.ksma@mail.ru
ORCID iD: 0000-0002-5166-2894
SPIN 代码: 7324-7491
俄罗斯联邦, 4 Mitrofan Sedin st, Krasnodar, 350063
Aleksandr Verevkin
Kuban State Medical University
Email: vilehand@bk.ru
ORCID iD: 0000-0002-4159-2618
SPIN 代码: 8264-4990
MD, Cand. Sci. (Medicine)
俄罗斯联邦, 4 Mitrofan Sedin st, Krasnodar, 350063Igor Sevostyanov
LLC “Stomatological Сenter ‘Intelligent’”
Email: drsevostyanovia@gmail.com
ORCID iD: 0000-0002-8472-7279
SPIN 代码: 9174-3102
MD, Cand. Sci. (Medicine); Scientific & Clinical Base of Kuban State Medical University
俄罗斯联邦, KrasnodarKarina Melkonian
Kuban State Medical University
Email: kimelkonian@gmail.com
ORCID iD: 0000-0003-2451-6813
SPIN 代码: 2461-8365
俄罗斯联邦, 4 Mitrofan Sedin st, Krasnodar, 350063
Inna Samoxvalova
Kuban State Medical University; LLC “Stomatological Сenter ‘Intelligent’”
编辑信件的主要联系方式.
Email: samoxvalovai@mail.ru
ORCID iD: 0000-0003-0360-8882
SPIN 代码: 9091-1041
Scientific & Clinical Base of Kuban State Medical University
俄罗斯联邦, Krasnodar; KrasnodarIyad Alayoub
Kuban State Medical University
Email: iyadalayoub@yahoo.com
ORCID iD: 0009-0007-3888-8024
俄罗斯联邦, 4 Mitrofan Sedin st, Krasnodar, 350063
参考
- Ananich AYu, Perova MD, Sevostyanov IA, Gilevich IV. Current possibilities and prospects of alveolar bone defect replacement and covering tissues: narrative literature review. Russian Journal of Dentistry. 2024;28(3):271–285. doi: https://doi.org/10.17816/dent623472 EDN: RSMDNU
- Bozo IYa. Development and application of gene-activated osteoplastic material for replacing bone defects [dissertation]. Moscow: FGBOU VO MGMSU named after A.I. Evdokimov; 2017. (In Russ.) EDN: ATXBQA
- Soldatov IK, Juravleva LN, Tegza NV, et al. Scientometric analysis of dissertation papers on pediatric dentistry in Russia. Russian Journal of Dentistry. 2023;27(6):571–580. doi: 10.17816/dent624942 EDN: QINWXB
- Presnyakov EV, Kurbonov KhR, Sorochanu IP, et al. Regenerative osteogenesis at the interface of tissue-osteoplastic material. Morphology. 2023;161(4):33–42. doi: 10.17816/morph.629963 EDN: FKRNTE
- Zheng J, Zhao Z, Yang Y, et al. Biphasic mineralized collagen-based composite scaffold for cranial bone regeneration in developing sheep. Regen Biomater. 2022;9:rbac004. doi: 10.1093/rb/rbac004 EDN: MOVRGE
- Balin VV, Dvorianchikov VV, Zheleznyak VA, et al. Evaluation of the postoperative course in patients after removal of dystopic third molars. Russian Journal of Dentistry. doi: 10.17816/dent634561 EDN: UOXPET
- Saghiri MA, Asatourian A, Garcia-Godoy F, Sheibani N. The role of angiogenesis in implant dentistry part II: The effect of bone-grafting and barrier membrane materials on angiogenesis. Med Oral Patol Oral Cir Bucal. 2016;21(4):e526–37. doi: 10.4317/medoral.21200
- Volotovski A, Studenikina T. Development and growth of the skull in pre- and early postnatal periods of ontogenesis. Military Medicine. 2022;(1):66–73. doi: 10.51922/2074-5044.2022.1.66 EDN: PURIRI
- Rugal VI, Semenova NYu, Bessmeltsev SS. Formation of stromal microenvironment and formation of hematopoiesis in fetal spongy bone. The Bulletin of hematology. 2019;15(4):14–18. EDN: DJBFNM
- Kamilov FK, Farshatova ER, Enikeev DA. Cellular and molecular mechanisms remodelling of bone tissue and regulation. Fundamental’nye issledovaniya. 2014;(7-4):836–842. EDN: SMJYND
- Marks SC, Odgren PR. Structure and development of the skeleton. In: Principles of bone biology (second edition). San Diego: Academic Press; 2002. Р. 3–16. doi: 10.1016/B978-012098652-1.50103-7
- Bixel MG, Sivaraj KK, Timmen M, et al. Angiogenesis is uncoupled from osteogenesis during calvarial bone regeneration. Nat Commun. 2024;15(1):4575. doi: 10.1038/s41467-024-48579-5 EDN: MICBPN
- Battafarano G, Rossi M, De Martino V, et al. Strategies for bone regeneration: from graft to tissue engineering. Int J Mol Sci. 2021;22(3):1128. doi: 10.3390/ijms22031128 EDN: VOMMWO
- Volkov AV. Morphology of reparative osteogenesis and osseointegration in maxillofacial surgery [dissertation abstract]. Moscow; 2019. (In Russ.) Available from: http://dissovet.rudn.ru/web-local/prep/rj/index.php?id=7&mod=dis&dis_id=2396
- Aghazadeh AR, Hasanov IA, Aghazadeh RR. Histomorpho-metric and quantitative histochemical analysis of periimplantation zone in patients with different bone mineral density within dental implantation. Annals of The Russian Academy of Medical Sciences. 2014;69(3-4):19–23. doi: 10.15690/vramn.v69i3-4.990 EDN: SBTUAV
- Minaeva SA, Vasilyev AV, Bukharova TB, et al. Application of Raman scattering spectroscopy for study of the mineralization of bone regenerates. Clinical and Experimental Morphology. 2012;(4):53–56. EDN: PMEWZB
- Bykov VL. Cytology and general histology (functional morphology of human cells and tissues). Saint Petersburg: SOTIS; 1998. (In Russ.)
- Karaplis АС. Embryonic development of bone and regulation of intramembranous and endochondral bone formation. In: Principles of bone biology (third edition). 2008;1:53–84. doi: 10.1016/B978-0-12-373884-4.00025-2
- Percival CJ, Richtsmeier JT. Angiogenesis and intramembranous osteogenesis. Dev Dyn. 2013;242(8):909–922. doi: 10.1002/dvdy.23992
- Zhai Y, Zhou Z, Xing X, et al. Differential bone and vessel type formation at superior and dura periosteum during cranial bone defect repair. Bone Res. 2025;13(1):8. doi: 10.1038/s41413-024-00379-9 EDN: CHVMDS
- Vasilyev AV, Volkov AV, Bolshakova GB, Goldstein DV. Characteristics of neoosteogenesis in the model of critical defect of rats’ parietal bone using traditional and three-dimensional morphometry. Genes & Cells. 2014;9(4):121–127. doi: 10.23868/gc120414 EDN: YRWLHX
- Gosain AK, Santoro TD, Song LS, et al. Osteogenesis in calvarial defects: contribution of the dura, the pericranium, and the surrounding bone in adult versus infant animals. Plast Reconstr Surg. 2003;112(2):515–527. doi: 10.1097/01.PRS.0000070728.56716.51
- McKee MD, Buss DJ, Reznikov N. Mineral tessellation in bone and the stenciling principle for extracellular matrix mineralization. J Struct Biol. 2022;214(1):107823. doi: 10.1016/j.jsb.2021.107823 EDN: NPEZTM
- Wang S, Liu Y, Fang D, Shi S. The miniature pig: a useful large animal model for dental and orofacial research. Oral Dis. 2007;13(6):530–537. doi: 10.1111/j.1601-0825.2006.01337.x
- Mesher EL. Histology according to Junqueiro. Bykov VL, editor. Moscow: GEOTAR-Media; 2022. (In Russ.) doi: 10.33029/9704-6981-1-BNT-2022-1-624 EDN: TNMECM
- Patent RUS No. 2717088 C1/ 18.03.2020. Byul. No. 8. Gilevich IV, Sotnichenko AS, Melkonyan KI, t al. Method of producing acellular dermal matrix. EDN: KFTWTZ
- Perova MD. Periodontal tissues: norm, pathology, ways of restoration. Moscow: Triada Ltd.; 2005. (In Russ.) EDN: QLKUNJ
- Omatsu Y. Cellular niches for hematopoietic stem cells in bone marrow under normal and malig-nant conditions. Inflamm Regen. 2023;43(1):15. doi: 10.1186/s41232-023-00267-5 EDN: HXWHII
- Dalli J, Montero-Melendez T, Norling LV, et al. Heterogeneity in neutrophil microparticles reveals distinct proteome and functional properties. Mol Cell Proteomics. 2013;12(8):2205–2219. doi: 10.1074/mcp.M113.028589
- Nesterova IV, Kolesnikova NV, Chudilova GA, et al. The new look at neutrophilic granulocytes: rethinking old dogmas. Part 1. Russian Journal of Infection and Immunity. 2017;7(3):219–230. doi: 10.15789/2220-7619-2017-3-219-230 EDN: ZHTRMJ
- Perova MD, Shubich MG, Kozlov VA, Tropina AV. Evaluation of processed lipoaspirate cells autografting for the treatment of advanced periodontitis and features of granulation tissue growth. The Dental Institute. 2010;(2):62–64. EDN: MWCQXJ
- Perova MD, Shubich MG. Discovery of the neutrophil extracellular traps begins a new stage in the study of neutrophil morphogenesis and function. Morphology. 2011;139(3):89–96. EDN: MOHNLC
- Ivanov AN, Bugaeva IO, Kurtukova MO. Structural characteristics of human and other mammalian endothelial cells. Tsitologiya. 2016;58(9):657–665. EDN: WJLJDZ
- Balaji S, King A, Crombleholme TM, Keswani SG. The role of endothelial progenitor cells in postnatal vasculogenesis: implications for therapeutic neovascularization and wound healing. Adv Wound Care (New Rochelle). 2013;2(6):283–295. doi: 10.1089/wound.2012.0398
- Morrison SJ, Scadden DT. The bone marrow niche for haematopoietic stem cells. Nature. 2014;505(7483):327–334. doi: 10.1038/nature12984
补充文件